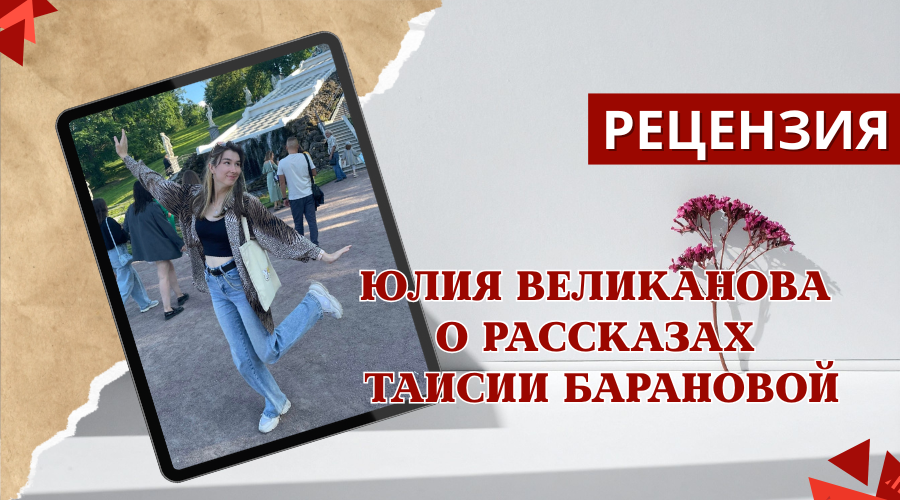
Предлагаю сначала поговорить о каждом рассказе отдельно, затем в целом о том, что уже получается и на что стоит обратить внимание, работая над новым материалом.
В рассказе «Последняя лошадь принадлежит льву» сделана внятная заявка на крепкое, довольно жёсткое, даже мужское литературное письмо.
Попытаемся разобраться в происходящем, познакомимся с героями.
Где происходит действие? Из более ли менее чётких обозначений — экзотическое «прерии». Также мы знаем, что идут военные действия, герои служат вместе три года. Позади у них «много дней скитаний, голода и бесчинств». Они совершили некую «вылазку», очевидно, неудачно.
Читатель оказывается в эпицентре конфликта. Идут затяжные военные действия, бойцы в немыслимых условиях, они ожесточены, потому что им элементарно нечего есть.
Кто есть кто? Василий Петрович Львов — командир, его лошадь по кличке Страда оказалась в центре конфликта. Участники-сослуживцы: «мужик» Смысловский и его товарищ Серега, а также «мальчонка» Степан Горюшкин.
Мы узнаём, что у Степана была лошадка Галька, но он не смог её отстоять, и голодные бойцы Львова её уже убили и съели.
Также известно, что лошадь по кличке Корька возит Серёгу, но не любит его. Её хозяин-немец погиб в бою. И потому Серега вполне готов отдать на съедение Корьку. Казалось бы, это должно спасти Страду...
Голодных людей не может судить тот, кто не был на их месте. Автор показывает нам, что и в столь сложной ситуации одни ведут себя более порядочно, другие бесчестны.
Не всё всегда надо прояснять до конца. Это тоже начинающая писательница интуитивно почувствовала верно. Обманная афера с лошадьми, похожа, понятна только Смысловскому (её придумавшему) и Степану. В эмоциональном порыве Степан не выдержал и проговорился, хотя Смысловский взял с него слово молчать.
Скорее всего, съесть так или иначе придётся всех лошадей, и Смысловский просто подгоняет события, испытывая серьёзную неприязнь к командиру. Однако его финальный «уход» от остальных в условиях боевых действий воспринимается как поведение несмышлёныша детсадовского возраста...
Мы помним, что весь этот бой между своими происходит между измождёнными, голодными, разочарованными неудачами бойцами. В таких битвах всё поднимается со дна человеческой души, вся истинная суть человека.
Это автору во многом удалось передать.
А ещё конь для солдата на войне — это не только полноправный товарищ, он опора, помощник, нередко спаситель.
Мы уже не знаем этого, не помним, но прежде «когда мальчик казак рождался, то дед его лет с четырёх обучал воинской науке: как по лесу ходить незамеченным, как выжить без еды и воды в холоде. Жеребёнка новорожденного пацану давали, так они и росли с детства вдвоём, не разлей вода. Хлеб один делили, спали и дышали вместе. Боевой конь и хозяин — это одно существо» (из романа Софии Агачер «Путешествие внутри себя»). Именно об этом говорит Таисия Баранова в своём небольшом, но очень ёмком рассказе.
Герои должны есть, чтобы выжить, чтобы справиться со всем, что уготовано им дальше. Что будет дальше, автор нам не говорит.
Показан краткий эпизод, момент сосредоточения, выплеска самого сильного напряжения, его энергия копилась долго, в нечеловеческих условиях войны. Вот что делается с человеком, когда невероятно трудно, почти невозможно человеком оставаться.
Героиня рассказа «Туфельки» Тамара Степановна похоронила мужа и теперь вынужденно переезжает из городской квартиры в деревню, к дочери Василисе и её семье.
Среди собранных вещей выделяются красные туфли на шпильках. Их не уложили в чемодан сразу, и теперь их некуда положить. Дочь недоумевает — зачем матери теперь такая обувь: «На речку ходить? В огурцах копаться?».
А Тамара Степановна вспоминает, что некогда подаренные Вячеславом, тогда ещё женихом, и оказавшиеся меньше по размеру, туфли тем не менее словно сопровождали всю её жизнь. Не раз пыталась она их обуть, да всё не получалось. Ни к чему такая обувь молодой кормящей матери. Тем более незачем яркие «шпильки» женщине, похоронившей старшего сына, погибшего во время службы в армии.
Теперь Тамара Степановна — пожилая женщина, и людям её возраста свойственно вспоминать своё прошлое, прокручивая кино памяти в воображении. Так вот — в своих фантазиях в счастливые моменты жизни героиня видит себя в красных туфлях. Разве же можно их оставить, забыть, не взять с собой?!
(Уточнение: в юности героиня названа Тоней, но Тоня (Антонина) и Тамара — разные имена.)
Чтобы писать от имени пожилой женщины, пробежаться по всей её жизни, писателю нужны уверенность и пристальное знакомство с жизнью людей других поколений. Отметить вехи истории — семьи и страны.
Итак, положить туфли, ставшие теперь героине впору, было некуда, и тогда она их обула. «На перроне Тамара Степановна стояла, выпрямившись во весь рост, будто в свой давний день рождения перед зеркалом, гордо сжимая в руках парочку светло-серых кожаных босоножек». Предлагаю уточнить важный момент: представляется, что не должно быть в руках у героини других туфель. Ведь в таком случае можно было и те самые туфли в руках понести (что разумнее, чем идти по железнодорожному перрону на шпильках).
Но теперь Тамара вновь молода и легка! Босоножки будничные или стоит вообще бросить-забыть в квартире (дочь говорила, что довезут остальные вещи потом), или их можно засунуть в багаж — они без каблуков, компактные.
А ещё — более жизненно, если изначально красные туфли были героине велики. Нога с годами не становится меньше, а наоборот.
«Наверное, у Василисы не было ещё ничего столь же памятно дорогого, как эти туфли», — подумала её мать...». Вспомнилось из книги Р.М. Рильке «Письма к молодому поэту»: «...если у Вас нет общего с другими людьми, будьте ближе к вещам, и они Вас не покинут...». Необычайно одинокую жизнь прожила героиня, жена, многодетная мать. Ничей внутренний мир не был ей знаком и открыт. Лишь намёки, но это, однако считывается. И очень жизненно воспринимается...
Рассказывает автор и о чувствах, которые 20-летней девушке ещё только предстоит в той или иной мере испытать. Пишет, и получается вполне достоверно, негромко и трогательно.
Я бы предложила ещё подумать над названиями обоих рассказов.
Мастеровито написано для 20-летнего автора, необычен выбор тем, возраст персонажей, круг проблем.
Предлагаю в дальнейшей работе помнить о том, что за достоверность отвечают в прозе детали, наблюдательность автора.
Говоря о младшем сыне-спекулянте, дайте одну-две точные приметы; или опишите, в чем именно молодой муж Вячеслав проявил себя мастером на все руки.
В какое именно время происходит переезд? Мы знаем, что муж скончался в 1991, и сколько-то ещё с тех пор минуло лет.
Так как одна дата (распад СССР) указана чётко, значит, мы не в пространстве притчи. Возникают временны́е координаты. Гибель старшего сына во время службы в армии пришлась на конец 80-х. Никаких конкретных «горячих точек» в то время для нас не было. Другое дело, что в преддверии событий начала 90-х было неспокойно практически на всех границах, и погибнуть советский солдат-срочник мог где угодно. Но всегда стоит подумать о балансе между притчевым «война никогда не кончается... где-нибудь воюют всегда» и конкретной трагедией сына Михаила.
Даны детально сложности вхождения молодой героини во взрослую жизнь после замужества. И там есть некое несоответствие в подробностях: сначала приготовление «котлетки» и «салатика», а потом речь заходит об уходе за коровой и курами. Для городской девушки это задачи разного порядка, прямо скажем.
В целом в обоих рассказах чувствуется большой творческий потенциал.
Заметно желание автора писать иначе — не как сверстники, которые в основном логично пребывают в кругу забот своего поколения.
Чувствуется готовность знакомиться глубже с психологией людей — без чего писательское дело невозможно.
Всё это обещает формирование самобытного интересного автора и появление новых зрелых и запоминающихся рассказов.
Удачи и смелости!
Юлия Великанова: личная страница.
Таисия Баранова. Родилась и выросла в городе на Волге – в Ярославле. 20 лет. С детства увлекалась прозой, читала сказки, изучала литературу. В средней школе начала заниматься написанием своих историй. В седьмом классе стала посвящать литературе всё больше времени, ходила на творческие вечера, занималась в литературной студии под руководством Перцева В.Ю., однако из-за экзаменов пришлось прерваться в написании новых историй. За время, что участвовала в литературных вечерах, Таисию дважды публиковали в сборнике «Проба пера». Сейчас является студенткой третьего курса юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Продолжает писатеь рассказы о повседневной жизни, о людях, которые сталкиваются со сложными моральными выборами. Ранее публиковалась на одной известной литературной платформе и получала положительные отзывы читателей.
Рассказы Таисии Барановой
Последняя лошадь принадлежит льву
Последняя лошадь принадлежала Львову Василию, который ни на шаг не отходил от неё. А та будто и не подозревала, что люди здесь желают её смерти. На второй день, когда Львов тревожно дремал около слабой и еле живой лошади, мужики окружили его. Один из них, Смысловский, подначивал других:
– Горло ей перерезать, и дело кончено, – его голодные глаза горели жадным огнём, и каждый понимал, что как только кинжал будет воткнут в шею лошади, он первый бросится её разделывать.
– Давай ты, Серёг, – толкнул Смысловский своего товарища.
– Может, не надо? – произнес самый молодой их них – Степан Горюшкин. Он выглядел очень плохо, но в сердце его еще жила надежда.
Смысловский, не оборачиваясь, проскрежетал:
– Заткнись, щенок. Иначе следующим будешь ты.
Угроза выглядела вполне реальной, поэтому мальчонка даже отступил на шаг. А вот Смысловский и Сергей, наоборот, сделали шаг вперед, к лошади.

Животное не спало, и только из-за отсутствия сил лежало, как жеребенок, подогнув колени. Горюшкин, нахмурившись, смотрел в глаза лошади, и внутри у него бушевали чувства, которые, он думал, уже притупились за столько дней скитаний, голода и бесчинств. Он всё еще помнил свою лошадку Гальку. Пёстрая, как речные камушки, лошадь была сама по себе не очень красивой и не сильной, тяжело преодолевала препятствия и временами была непослушной. И Стёпа, смотря в добрые доверчивые глаза лошади Львова, заплакал, вспоминая, как Галька рванула с места. По её пёстрой и короткой шее текли струи крови, смешиваясь с желтой гривой. Она ходила, ослабевала, пока ноги её не подкосились, и Галька не рухнула на промёрзшую землю. Её лишили жизни первой, поскольку именно он, Стёпа, был самым слабым. Он не смог её защитить, и поэтому лошадь погибла.
Под ногами убийц захрустела земля; Львов тотчас вскочил, заозирался и быстро вытащил короткий нож.
– Стоять! – выкрикнул он, направляя ножичек то на Смысловского, то на Серегу. Оба скалились, встав по бокам от Львова. – Я сказал, стоять!
Первым заговорил Смысловский, протягивая вперед свою грязную, покрытую копотью руку, которой он рылся в костре от безделья с утра.
– Эй, спокойно. Мы просто пришли разбудить тебя, пора выдвигаться. Серега сказал, что, кажется, видел огни впереди. Возможно, деревушка, черт их знает, – он старался выглядеть дружелюбно, но Василий Петрович не торопился убирать нож.
– Огни? Утром? Не нужно держать меня за дурака, Смысловский.
– Не нервничай, – вдруг нахмурился Смысловский, осознав, что ложь раскрыли так быстро, – убери нож и пошли отсюда.
Он вытер сухие губы рукой.
Львов не двигался с места, своей грозной фигурой загораживая лошадь, продолжавшую смотреть на людей вокруг с доверчивой любовью. О ней всегда говорили, что она была глупа и медлительна, зато отличалась удивительной преданностью и выносливостью. Точно её хозяин – спокойной и величавой силой духа, на которую только была способна лошадь.
– Ну ты чего, Вась? – доверительно продолжал увещевать Смысловский. – Я же дал слово, что не буду убивать её.
И Львов заговорил хриплым голосом:
– Да-да, знаю, как ты слово держишь. Я с тобой три года служу, наслушался за это время твоих обещаний сполна.
Сергей стоял в нерешительности, ожидая, пока Смысловский отдаст приказ резать лошадь. Он был очень голоден, но не зол. И если бы Львов вдруг крикнул: «Бей Смысловского!» – он бы так и поступил. В его характере было подчиняться приказам от кого бы они не исходили. И ровно через неделю, когда мясо маленькой лошаденки Стёпки кончилось, он предложил использовать Корьку – добротного коня, но изрядно похудевшего и ослабевшего.
Корька и Серега друг друга не любили, поскольку Серега был Корьке враг, и конь чувствовал, что Серега был чужой, не свой, и до сих пор ждал своего хозяина, погибшего в бою немца. А пока настоящего хозяина не было, выносил этого, седока неуверенного, в бою трусливого, в чем-то даже жалкого.
Но Сергей мечтал быть героем, предлагал себя в качестве хорошего помощника, а потом посреди боя куда-то исчезал. Отсиживался где-то, пока его товарищи гибли. И все знали, что он трус и никакой не герой. На благо самого Сереги он не был хвастун, возвращался из укрытия, садился у костра и ни с кем не разговаривал. Ему вообще повезло, что Львов взял его в эту вылазку. Жаль только, что удачей их ситуацию ну никак назвать нельзя. Вот уже который день они скитались по бесконечным прериям, которым не было видно ни конца, ни края. Потеряли дорогу, потеряли полк и теперь старались не потерять хотя бы свои жизни.
И в этот раз Серега хотел показаться героем, предложив своего коня. И впервые в своей жизни его похвалили – за жертву чужой жизнью, за дело, которое не стоило ему никаких усилий. И он был счастлив.
В это время Львов заметил Стёпку, украдкой вытиравшего слезы с лица.
– Что случилось, солдат? – выкрикнул он по-доброму, обращая на себя внимание мальчика.
Стёпка отвернулся, чтобы ни Смысловский, ни Серега не видели его слёз, а потом тихо сказал:
– Да Страду жалко...
Лицо Смысловского перекосилось от гнева, потому что мальчик выдал этим весь замысел.
– Ах ты гаденыш! – и тут же бросился вперед, сжимая кулаки. Злость на Степу у Смысловского копилась уже давно, и он был рад выплеснуть её под надуманно справедливым предлогом.
Он накинулся на Степу и с небывалой силой уронил его на землю. Горюшкин ударился головой, но сознание не потерял. Отпор он дать не мог, но тут вовремя подоспел Львов. Бывалый солдат подхватил Смысловского под руки и с силой оттащил от Степы, из носа которого капала кровь, затем отпустил, от чего Смысловский, потерявший равновесие, упал.
Когда офицер вскочил на ноги, все еще взбешенный, Львов заговорил с ним, громко чеканя слова:
– Знаешь, почему я ненавидел тебя в полку и до сих пор ненавижу, Бессмысловский, а? Знаешь, почему? Ты жалкий, убогий и низкий человек. Я ни за что не дам тебе свою лошадь, мерзавец. У тебя её никогда не было, и тебе не понять, почему я так дорожу ею. Ты посмел отобрать лошадь у Степки, но мою не тронешь! Я умру, но не дам тебе даже прикоснуться к ней.
Смысловский смотрел на Страду, что продолжала доверительно хлопать ресницами и бессильно болтала хвостом по земле.

– И ради какой-то скотины ты готов нас всех похоронить? Хорош командир.
На секунду он тоже увидел в прекрасных черных глазах лошади милую грусть и доброту. Она без страха смотрела на него, будто понимала и тихо соглашалась со своей участью страдалицы, необходимой жертвы для спасения этих людей, которые хотели жить и, разумеется, были более достойны жизни, чем она, обычное животное...
– Дальше у нас разные дороги, Львов. Прощай.
Смысловский плюнул на землю и, повернувшись всем корпусом, пошел прочь. Ему было стыдно где-то в глубине души, но сейчас он хотел испытывать злость и ненависть ко всем этим людям. И испытывал.
Степа вытер кровь с лица рукавом. Слезы продолжали капать на окровавленный рукав. Серега убрал нож в ножны и вернулся к остывшему костру, где ночевал. Василий обессилено упал рядом с лошадью и, прижавшись к ней лицом, потерся о её теплую шерсть, вцепился рукой в гриву, сдерживая стон облегчения.
Никто даже не посмотрел вслед офицеру, когда тот уходил. А вот он обернулся, дернулся в нерешительности, будто хотел укорить бывших товарищей за равнодушие, но так ничего и не смог произнести. Останавливать его не стали.
Туфельки
В конце концов трехкомнатная квартира сделалась слишком большой для одного жильца, и сын с дочерью настояли на переезде. Оставшиеся после отсеивания старого хлама немногочисленные вещи были упакованы по сумкам и пакетам. Вспомнился хрустальный сервиз и банка с разными, похожими на осколки витражей, пуговицами. Они первыми отправились на помойку, без обсуждений, но под сокрушенные вздохи их хозяйки.
Тамара Степановна стояла в коридоре в бежевой куртке и смотрела на то, как дочь пытается запихнуть коробку с обувью в чемодан. Он был полон доверху и никак не закрывался.
– Помочь, Василиса? – спросила женщина.
– Ну зачем тебе эта проклятая обувь! – воскликнула вдруг дочь, сдергивая крышку и отбрасывая в сторону. Она неаккуратно достала две красные туфли на каблуке, совершенно новые, и постаралась вместить их между пакетом с платьями и пледом.
Наблюдая за этим, Тамара Степановна тяжело вздохнула. Она никак не могла оставить туфли тут, в уходящей от неё городской жизни. И пусть теперь её соседями станут куры да коровы, забрать с собой частичку прошлого наравне с фотоальбомом казалось необходимым.
Дочь продолжала ругаться, засовывая обувь то носом внутрь, то каблуком. Пакеты и сумки уже отнес в новенькую машину муж Василисы, поэтому пристроить их было больше некуда. Либо сюда, либо бросать так.
– Вася! – закричали снизу. – Спускайтесь! Опоздаем на электричку!
– Просила же собраться с вечера! – зашипела на туфли девушка. – Как ты могла забыть про них?
Оправдываясь, Тамара Степановна прижала к себе старенькую сумочку:
– Так куда носить их теперь… Вот и запамятовала.
Бросив обувь на пол, Василиса застегнула наконец чемодан и встала.
– Ну раз носить некуда, так о чем разговор, – затем указала на дверь. – Не влезают, понятия не имею, куда их девать. Пошли, а то придется ждать следующего поезда.
Но старая женщина не сдвинулась. Лишь подняла глаза на дочь, в которых читался легкий укор. Ей больше ничего не оставалось, кроме как смотреть на неё, надеясь, что девушка сжалится. И Василиса обычно сдавалась, уступая своей матери. Однако сейчас нервы натянулись струной, и Василиса уперлась:
– Мам, мы едем в деревню. Зачем тебе красные шпильки, ну сама подумай. На речку ходить? В огурцах копаться?
Туфли были подарены лет сорок назад, когда женщину ещё никто не звал мамой и не заставлял переезжать за сотни километров от города. Деревня как будто перестала быть деревней в глазах отпрысков, стоило только утеплить стены и провести электричество в розетки. Осталось только сменить надпись на покосившемся указателе, переименовать в «коттеджный поселок «Заячье».
Давно это было. Счастливая, Тоня праздновала день рождения вместе с семьей и молодым человеком. Черноглазого, статного юношу звали Вячеслав. Тоня звала его просто Слава и уже планировала свадьбу, к которой шли их отношения не первый месяц. В тот день он достал большую коробку, обернутую атласным синим бантом, и, с гордостью обведя взглядом собравшихся старших, передал её любимой. Тоня подрагивающими от нетерпения руками развязала бант, разорвала обертку и увидела сложенные вместе красные туфельки явно не советского производства.
– Импортные! – тут же подтвердил жених и улыбнулся, гордый собой.
У всех вокруг точно закружилась голова от зависти. Такой подарок стоил огромных денег, Тоня даже представить себе не могла, как долго нужно было откладывать от зарплаты, чтобы купить его.
Слава приобнял девушку, целомудренно поцеловал в лоб и уселся обратно за стол. Он вел себя так, словно ничего для него не было проще, чем купить в подарок туфли. Таких больше не было ни у кого, Тоня точно знала. Она прижала с любовью туфельки к груди и, тут же заявив, что хочет померить, побежала в соседнюю комнатку под одобрительные возгласы.
Спустя несколько минут радость, накатившая как опьянение, сменилась разочарованием. Тоня встала перед зеркалом, выпрямившись во весь свой рост. Зеленое платье с пышной юбкой сидело прекрасно. Тоне изначально оно было чуть велико, однако умело перешитое мамой выглядело гораздо лучше, подчеркивало искристые зеленые глаза и заплетенные в косу золотистые волосы. Красные туфельки сделали девушку выше, а ноги явно стали казаться стройнее, но Слава никак не мог предвидеть, что они будут нестерпимо малы, а потому насладиться длинной ног и высотой роста юной Тони никто не сможет. Носить их было нельзя. Утерев слёзы, Тоня улыбнулась себе в зеркало, поправила быстрым движением помаду и, выдохнув, вышла к гостям.
Тысячами комплиментов была обсыпана именинница и ещё столько же получили туфельки. Снимать их стало неудобно. Тоня не хотела расстраивать молодого человека, который так счастливо принимал похвалу и, разумеется, надеялся её порадовать. До конца праздника девушка сидела в давящей обуви, вынимая из неё с облегчением под столом ноги.
А потом все как-то забылось.
Через пару месяцев Слава сделал предложение, и Тоня погрузилась в предсвадебные хлопоты.
Семейная жизнь оказалась не такой, как девушка думала. Наверное, тяжелее всего было отказаться от городских удобств и почти на десять лет переехать в деревню, в дом к мужу. Теперь стирка, уборка и приготовление еды было целиком на ней. Рядом больше не было мамы, которая вовремя перевернула бы подгорающую котлетку, не было сестренки, которая бы ловко нарезала салатик к ужину. Грязная посуда тоже оставалась целиком и полностью заботой Тони. Помимо прочего, на попечении Тони оказались куры, корова и сторожевой пёс. Никогда не занимавшаяся животными, Тоня долго не могла найти к ним подход. Новые обязанности сильно давили, девушка постоянно думала о том, что не справляется и никуда не годится. У мужа, в отличие от неё, любое дело спорилось, за какую бы работу он ни взялся, всё шло легко. Про него говорили: «золотые руки»!
Туфельки лежали где-то в коробке в глубинах шкафа. Раз нужно было сходить на концерт, посвященный Дню Победы, а достойной обуви не оказалось. Тоня вспомнила о туфельках и хотела их примерить, может, один вечер и можно было бы потерпеть неудобства. Покрутила в руках, прошлась по комнате в них, да так и оставила. Всё бы ничего, но недавно на свет появился первый сын, Михаил. Молодая девушка ещё могла носить шпильки, а вот мать уже нет. Несолидно и смешно.
Тоня повзрослела и уже не плакала от усталости. В ней, оказывается, таилась сила, о которой она и не подозревала. Время шло, Слава всерьез заговорил о переезде в город. Будто и удобств больше, и возможности есть, не только на заработки ездить, и для жены город привычнее.
Но от слов к делу перешли только когда на руках у Тони уже было трое детей. Тоня почти без сожаления покидала их хибарку, животных и прошлые заботы. Она скучала по городу. Им выдали трехкомнатную квартиру в спальном районе и впервые за много лет Тоня почувствовала, что может действительно отдохнуть, хотя бы вечерами.
Новым испытанием стала работа. Тяжело было привыкнуть к новому коллективу, обучиться новой профессии. Сидя за швейным станком, она старалась не отвлекаться на мысли о детях. Одно, правда, осталось неизменным. Тоня постоянно думала о том, что приготовить.
Год летел за годом. Старшему сыну только-только исполнилось восемнадцать, когда его призвали в армию. Провожали всей семьей, младшие дети, Василиса и Леша, махали вслед поезду платочками. Прощались.
А потом случилось несчастье, которое уничтожило хрупкое сердце Тамары. Миша отслужил только год. Прислал фотографию в военной форме. Улыбался искренне, вызывающе. Тоне он напоминал Славу в молодости. Тоже черноглазый и черноволосый, словно чертёнок. Сын писал, что нужно будет отбыть ему по службе, задание есть, приказ, обязан выполнить. Заверял, что беспокоиться не нужно, будет писать письма и рассказывать, как у него дела. Просил не беспокоиться, отправить что-нибудь из дома, скучал и ждал встречи. Остался всего год, а дальше университет, работа… Дальше начнется настоящая жизнь.
Но когда-то весной, ещё даже не успели распуститься подснежники, пришло извещение. Краткое и равнодушное. Медали. Грамота. Вместо сына – вещи. Даже не его личные.
В те страшные годы Тоня похоронила все свои яркие наряды, в том числе и злополучные туфли.
Дети выросли незаметно. Дочь поступила в университет и быстро перебралась к своему молодому человеку. Младший сын выбрал карьеру, занялся работой. Времена настали неспокойные, и Тоне всё казалось, будто Леша прячет что-то в своей комнате. По ночам выносит незаметно, только дверь входную забывает закрывать. Тоня дергалась каждый раз, мерещилось, что вот-вот нагрянет милиция.
На полке с фотографиями лучисто продолжал улыбаться Михаил. Вечно девятнадцать. Сколько уж времени прошло с того дня, как она обнимала его в последний раз?..
Слава старел. Уж сколько времени прошло со дня смерти сына, а он так и не смирился. Горе отпечаталось на его лице. Единственное, он не взялся за бутылку, как многие, хоть алкоголь мог бы притупить тоску. Что происходило в его душе и как ему помочь, Тоня не знала. Мучительно было наблюдать за тем, как год за годом исчезает живость движений мужа, как тускнеет его кожа, западают любимые глаза.
В год развала Советского Союза его не стало. Тамара будто продолжала жить на автопилоте. На задворках сознания мелькали воспоминания. Там он и она были вместе, гуляли по бульварам, смеялись на семейных застольях, вместе плясали на танцах. Игра воображения, но там, в счастливой молодости, Тоня везде была в яркой красной обуви. В тех самых туфлях.
Череда унылых дней продолжалась, а Тамара, чтобы не зачахнуть, занялась работой, стала ездить в деревню, приводить потихоньку деревенский дом мужа в порядок. Съехал последний ребенок, Леша, в свою собственную небольшую квартиру. Теперь он без страха рассказывал, что торгует всякой мелочью, зарабатывает хорошо, а жениться не торопится. Время ещё есть.
В отличие от брата, у Василисы уже родились дети. Дом и внуки стали смыслом жизни Тамары Степановны, а одежда больше не имела значение. Женщина и сама не заметила, как образы её стали однотонными и невыразительными. Ничего от былой статности. Она больше не носила туфель, хотя теперь влезала в те самые красные, импортные. Но такая обувь была необходима молодой красавице из прошлого, а не старушке. Там, в старом платяном шкафу, они и пылились до сегодняшнего момента.
Вставая на защиту, Тамара Степановна сказала:
– Василиса, они же очень дорогие, как я могу их тут оставить?
Девушка вздохнула, сдерживая негодование:
– Ладно, привезем мы тебе их, как время будет, надо уходить уже.
И она вышла, чуть не задев мать бортиком чемодана.
Тамара Степановна посмотрела на туфельки, которые остались лежать на коврике как попало. Одна была опрокинута, каблук торчал вверх, а другая валялась рядом, подпирая сестру-близняшку, будто смирилась со своей участью.
И их никак нельзя было оставить.
Когда Тамара Степановна бежала к машине, Вася, таща за собой громоздкую сумку на колесиках, не смогла удержаться, съязвила:
– Надела? Носить, что ли, будешь?
«Наверное, у Василисы не было ещё ничего столь же памятно дорогого, как эти туфли», – подумала её мать, и не ответила.
На перроне Тамара Степановна стояла, выпрямившись во весь рост, будто в свой давний день рождения перед зеркалом, гордо сжимая в руках парочку светло-серых кожаных босоножек. Красные ей явно шли больше. Она так давно хранила в себе это желание – надеть туфли. Эти самые. И вот оно, подходящий момент наконец настал.
Муж Василисы удерживал многочисленные пакеты и сумки, сама Василиса заняла руки чемоданом и рюкзаком сына. Они негромко переговаривались, обсуждая, как будут добираться с вокзала в деревню с таким количеством вещей. Тамара Степановна держала ладошку внука и улыбалась. Маленький ребенок с удивлением смотрел на бабушку, которая выглядела так уверенно и счастливо, словно уезжала на отдых на море, а не в деревню за километры от города. Женщина наклонилась, и легонько провела рукой по черным волосам мальчика. Он был так похож...
А в уголках её глаз скопились звёздными остриями морщинки, но она чувствовала, что была красива, как и в молодости.
Красные туфли наконец стали в пору.




