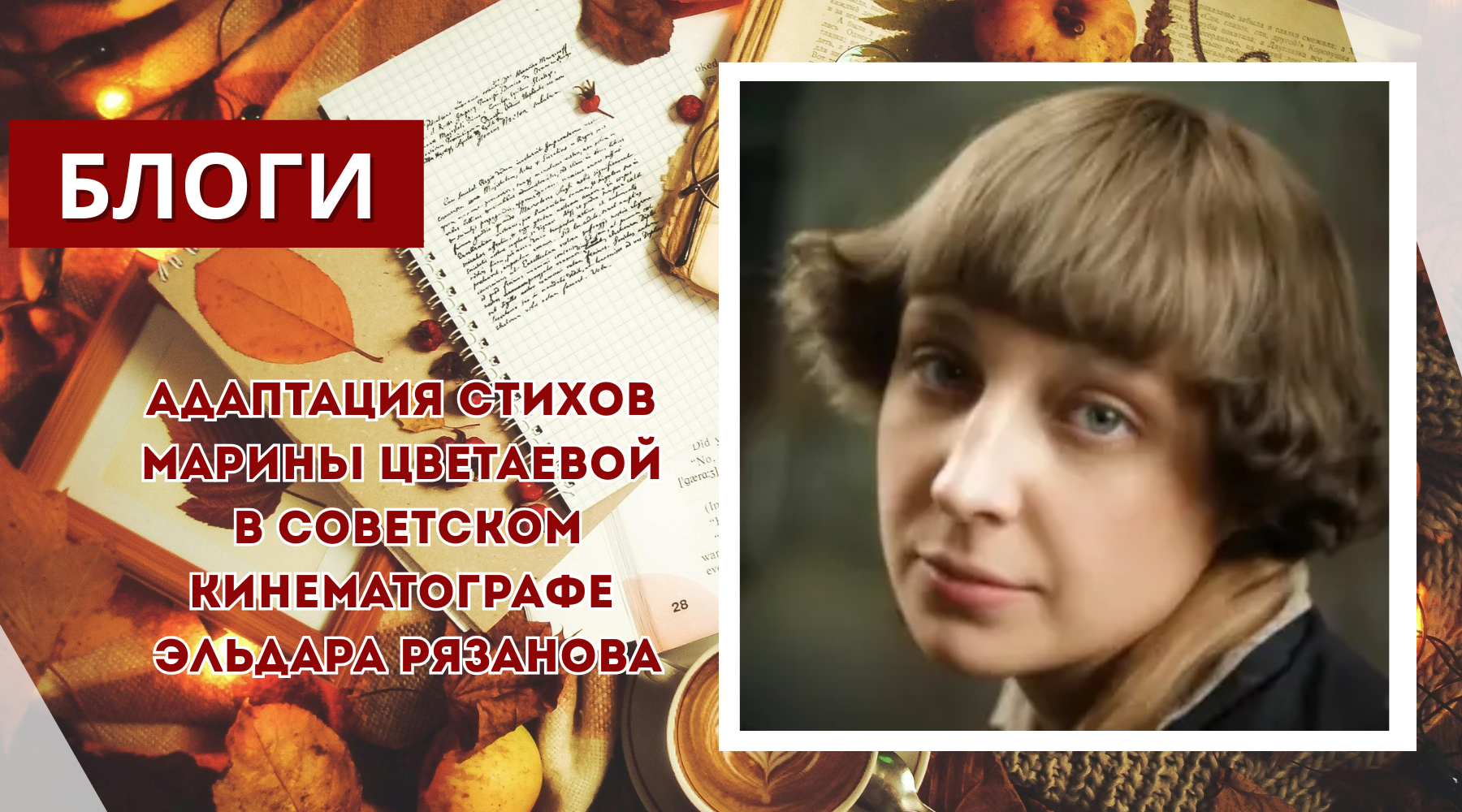
Стихотворения Марины Цветаевой легко входят в массовую культуру, поскольку в их поэтике сказываются традиции русского романса, где любовное чувство разворачивается в драматический сюжет с явными умолчаниями-загадками.
Марина Цветаева была одним из любимых поэтов Эльдара Рязанова. В одном из свои интервью он говорит: «И тогда я прибег к помощи моих любимых поэтов — Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. У них я нашел то, что мне было нужно. В них множество оттенков, тонкостей, которых не было в поэзии того времени…» [Мосфильм]. Благодаря фильмам Эльдара Рязанова стихи М.И. Цветаевой стали популярными и узнаваемыми во всем СССР.
«Мне нравится, что вы больны не мной» в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы» (1975)

Стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится…», представленное в фильме как романс, выступает в роли сжатого изложения сюжета фильма, за которым узнается фольклорно-сказочный вариант — «своя/чужая жена» (сюжеты типа «Забытая невеста», «Подмененная жена», связанные с мотивом испытания главного героя перед сватовством «трудные задачи», которые должны решиться для прохождения и завершения обряда инициации. Действие происходит в Новогоднюю ночь, когда, по определению, случаются чудеса. Случайная встреча является завязкой сюжета о бегстве героев из привычного мира. Стихотворение Цветаевой, исполненное главной героиней одновременно в качестве ответа на песню героя и в качестве признания в любви, является важнейшим элементом в композиции фильма, который соответствует лирическому сюжету романса: признание в любви, странной и невозможной, понимание ситуации, обреченной на неудачу.
В исполнении песни-стиха важна мимика актрисы: нежный взгляд в сторону героя служит началом любовного диалога между двумя нелепо встретившимися людьми. После исполнения следует разговор, а значит, романс «разворачивает» сюжет, помогает его продолжению.
«Благословляю вас» в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы» (1975)
Сюжет стихотворения, аналогично предыдущему, напоминает романс — любовные отношения, обреченные на неудачу; невозможность совместной жизни из-за внешних обстоятельств — драматизм ситуации. Замечается новый образ — зеркало, являющееся, согласно фольклорной традиции, проводником в «чужой мир». Это и происходит в стихотворении: лирическая героиня разговаривает с зеркалом и «выпытывает путь и пристанище», более того — она видит картину и, погружаясь в нее, как будто теряет связь с реальностью, с миром «своим». Здесь же появляется мотив дороги — стремление найти выход, однако его невозможность подтверждается образом воронов, которые символизируют, согласно фольклору, гибель. Последняя фраза отходит от сказочной традиции (выбор одного из трех путей: направо пойдешь — коня найдешь, прямо пойдешь — себя потеряешь, налево пойдешь — всем погибель будет), то есть «на все четыре стороны» интерпретируется в качестве современного фразеологического оборота, обозначающего предоставление полной свободы.
В кинематографической постановке стихотворение также превращается в романс, который исполняется главной героиней в завершающей утренней сцене и выступает, подобно «Мне нравится, что вы больны не мной…», в роли сжатого изложения сюжета. Сохраняется мотив безысходности, невозможности любви. К тому же мотив дороги, присутствующий в оригинальном тексте, переплетается с мотивом возвращения главного героя в Москву — домой. Это подтверждает, во-первых, подготовка к отъезду, во-вторых, слова героини после песни: «Подними билет. Я думаю, его можно найти», в-третьих, нежелание главного героя «трястись в поезде». Образ зеркала — «чужого пространства» — также сохраняется в фильме: главная героиня, начиная петь, произносит: «Мы немного сошли с ума. Новогодняя ночь закончилась, и все становится на свои места», а герой после исполнения: «У меня такое ощущение, что за эту ночь мы прожили целую жизнь…». Герои как бы попали в зазеркалье (чужой мир), искали выход, который оказался невозможным для счастливой любви. Слова «благословляю вас» повторяются трижды, напоминая заклинание, а последняя строфа — дважды, выступая в роли завершения истории. Редукция заключается как раз в том, что в оригинальном тексте лирическая героиня представляется наблюдателем, а в фильме — участницей, запутавшейся и видящей единственный выход — расставание.
Таким образом, можно сделать вывод, что произведения М.И. Цветаевой превращаются в романс благодаря как содержательной (фольклоризация ситуации: схожесть с сюжетом сказки «Морской царь и Василиса Премудрая»; характеристика лирической героини и ее переживаний), так и формальной (наличие определенного набора тропов и риторических фигур, ритма) составляющих. В фильме происходит заметная редукция произведений: меняется субъект, утрачиваются мотивы, индивидуально-авторский хронотоп заменяется кинематографическим и интерпретируется в связи с судьбой главных действующих лиц фильма. Стихотворения прочитываются как сжатый лирический сюжет фильма.
«Под лаской плюшевого пледа» в фильме Э. Рязанова «Жестокий романс» (1984)

Стихотворение звучит в самом начале фильма — после общего застолья и разговора Паратова и Ларисы. Лариса Огудалова, влюбленная в статного и харизматичного Сергея Сергеевича, исполняя романс, обращается к персонажу. Так создается диалогичность, однако не «внутренняя», как в оригинальном произведении, а внешняя: крупным планом выделяется лицо Паратова, глаза которого наливаются слезами, а улыбка как бы одобряет Ларису и отвечает на ее вопросы. Во время романса заметны заинтересованные лица гостей, однако они становятся фоном для двух главных героев. Романс не только отражает ситуацию, но и способствует ее развитию: начинаются любовные признания, поцелуи, поездка на пароходе… Загадочное поведение персонажей (утаивание мотивов) позволяет увидеть аналогию со стихотворением, которое строится на вопросах («кто побежден?», «была ль любовь?», «чье сердце?»).
По словам Э. Рязанова, «музыкальная и звуковая среда помогли создать поэтическую, напряжённую, местами мучительную, кое-где давящую атмосферу картины».
Стихотворение «Под лаской плюшевого пледа» становится романсом не только благодаря характерным для него любовным концептам, но и благодаря средствам выразительности: риторическим вопросам («Что это было?», «Чья победа?»), которые показывают внутреннюю диалогичность в стихотворении, внешнюю — в фильме; эпитетам («дьявольски-наоборот», «длительно мурлыча») и метафорам («вызываю сон», «сердце летело вскачь»), которые характеризуют состояние лирической героини; сравнениям («кто был охотник», «кто — добыча»), обозначающим роли двух лирических героев. Говоря о лингвистической составляющей, отметим внутрикорневые повторы (победа-побежден — победила ль; снова-вновь, все-всем), большое количество частиц «ли/ль», что придает тексту ритмическую плавность. В кинопостановке Лариса Огудалова пропевает каждую последнюю строчку катрена дважды — предполагаю, что это связано именно с сознательным переносом и разрывностью, краткостью фразы.
Стихотворение «Генералам двенадцатого года» в фильме Э. Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» (1981)

Романс исполняет Настенька, главный персонаж мелодраматического сюжета. То есть появляется другой субъект: вместо лирического героя представляется новый герой. Романс перестает нами восприниматься как стихотворение поэта серебряного века. Он подается как анонимный текст, вырванный из биографического контекста М. Цветаевой, и становится репликой персонажа. Отсюда и редукция: убирается все, что может напоминать об оригинальном авторе. Размышление об истинном предназначении гусаров, об их мужестве и геройстве становится как бы переходным звеном от комического к трагическому. Появляется новый контекст — рязановский — контекст кинематографической эпохи (хронотоп фильма), в соответствии с которым редуцируется цветаевский текст. Романс в контексте киносюжета приобретает публицистический характер.
Стихотворение, ставшее киноромансом, создает лирическое, но в то же время героико-патриотическое настроение и помогает перейти от комического, анекдотического плана сюжета к трагическому и реальному.
Таким образом, романсовое начало М. Цветаевой в кинематографическом сюжете усиливается и приобретает новые смыслы. «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Хочу у зеркала, где муть…», «Под лаской плюшевого пледа…» выступают в качестве текстов-сценариев, а «Генералам двенадцатого года» как текст-настроение.
Являясь результатом синтеза нескольких видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного, кинематографического), стихотворения образуют новые медиапродукты, в которых происходит смена субъекта: вместо лирического героя появляется ролевый герой, исполняющий романс по-своему, ориентируясь на собственную историю. Так, в фильме «Ирония судьбы, или с Легким паром!» ключевой героиней является Надя, которая и становится лирическим субъектом, использует слова стихотворений для изложения своей любовной истории. В «Жестоком романсе» исполнительницей является Лариса Огудалова — также персонаж иной эпохи, чем лирический герой Цветаевой. Так происходит ослабление, почти исчезновение авторского начала. Мы воспринимаем стихотворение в киноконтексте, в отношении к сюжетной линии героев.
Советское кино с помощью лирической поэтики как бы восстает против литературоцентричности и усиливает борьбу за изобразительность. Таким образом, благодаря синтезу кино и поэзии создается новое медиатворчество, которое воспитывает в зрителе эстетические и этически-моральные ценности.




