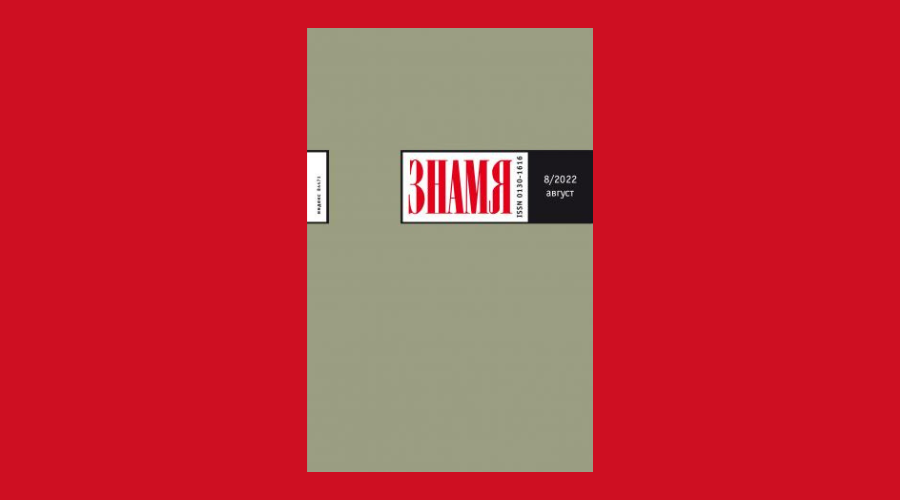«Знамя» № 8, 2022
Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Знамя» издается с 1931 года в Москве. Выходит 12 раз в год. Тираж 1300 экз. В журнале печатались А. Платонов, Ю. Тынянов, А. Твардовский, В. Некрасов, Ю. Казаков, К. Симонов, Ю. Трифонов, П. Нилин, В. Астафьев, В. Шаламов, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Л. Петрушевская, В. Маканин, Г. Владимов, Ю. Давыдов, В. Аксенов, В. Войнович и многие другие талантливые писатели.
Сергей Чупринин (главный редактор), Наталья Иванова (первый заместитель главного редактора), Елена Холмогорова (ответственный секретарь, зав. отделом прозы), Ольга Балла (Гертман) (заведующая отделом публицистики и библиографии), Ольга Ермолаева (отдел поэзии), Станислав Вячеславович Секретов (заведующий отделом «общество и культура»), Людмила Балова (исполнительный директор), Марина Гась (бухгалтер), Евгения Бирюкова (допечатная подготовка, производство), Марина Сотникова (заведующая редакцией, распространение).
«Наши мертвые нас не оставят в беде»
Поэтическая подборка екатеринбургского автора Алексея Кудрякова «Круговая порука слов» открывает августовский номер «Знамени». В ней всего два стихотворения 2019 года, и в обоих ветхозаветные цитаты вступают в диалог с авторским текстом. Подборка Алексея Кудрякова размечает главные темы номера: память, язык, поэзия.
разве я сторож памяти моей?
Авторская пунктуация предлагает читать этот текст как единое предложение, что не делает синтаксис прозрачнее. Анаграммные замены («в сторожке-в острожке»), паронимические сближения, сопрягающие неочевидно родственные слова («окаянно-покаянном») и звуковая цепочка «бал-бол-бел», обкатываемая, как камешки во рту («не балуя, боли во мне, белей») задают амплитуду ассоциативных прыжков, смысловых люфтов. Драматическую изнанку текста выявляет «небесный свиток предзакатной охры», который восходит к тысячелетней метафоре из пророчества Исаии: «Истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный…». Уточнение «как листок почтовый» несёт извещение-весть, и это весть о гибели: в свернутом небе ветхозаветного пророка обнаруживает себя эсхатологическое измерение, которое расщёлкивает буксующий ход времени, «бессобытийный строй» дней.
Пушкинская аллюзия «замысливший побег» («Давно, усталый раб, замыслил я побег…»), предвосхищенная пушкинской же предсмертной морошкой, сколлажирована с лагерной тематикой, «слежкой вохры». Собственно, частная судьба мыслится одновременно как объект и субъект некоей репрессии с советскими обертонами. И тогда побег из герметичного хронотопа тождественен побегу из ловушки сознания, где каждый сам себе и тюремщик, и пленник. Финальная строка-вопрошание «разве я сторож памяти моей?» (еще один ветхозаветная аллюзия – ответ Каина, убившего Авеля, на вопрос Бога) вводит мотив беспамятства, забвения. Эксплицируется репрессивно-депрессивная природа памяти; ее убийство – условие освобождения. При этом получается, что, поставив себя на место библейского убийцы и грешника, лирический субъект своим собеседником мыслит Бога. Так на небольшом пространстве текста разыгрывается масштабная мистерия обретения свободы, грядущего обновления в предстоянии смерти, в момент эсхатологической драмы.
Второе стихотворение подборки представляет почти космогоническую версию рождения поэзии, утверждая ее онтологические основы, ее божественную, но и амбивалентную суть.
круговая порука слов
Рефлексия о природе поэзии начинается с ветхозаветной истории об испытании веры. Финальные строки «тавтология, самоцель, / круговая порука слов» репрезентируют поэзию как Уробороса. Это структура, воспроизводящая сама себя, погруженная сама в себя. Если поэзия сама для себя, сама о себе, место поэта-творца при ней спорно, читателя тем более. Можно увидеть здесь и осмысление мандельштамовской формулы преемственности поэзии: «И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет», и его же «Быть может, прежде губ уже родился шепот». И вообще мандельштамовскую концепцию поэзии как особой формы речи, чьи предельные проявления – «бормотания», «лепет», «блаженное бессмысленное слово». Ещё один возможный собеседник Алексея Кудрякова – Аркадий Драгомощенко, его поэтический сборник «Тавтология» исследует ту же проблематику. «Круговая порука слов» манифестирует особый статус поэзии. Её язык оказывается наделенным самостоятельной интенцией, сознанием, то есть субъектностью. За или против нас эта субъектность? О чём молчат слова-сообщники, слова-свидетели, которым есть что скрывать (иначе зачем им «круговая порука»)?
Рождённая под взмахом жертвенного ножа, в момент наивысшего экзистенциального напряжения сил, в момент, от которого зависит исход отношений человечества с Богом, поэзия не может быть бессмысленной.
Крупная форма в августовском номере представлена окончанием романа «Дочь предателя» (начало в июльском «Знамени»). Роман вошёл в лонг лист Национальной литературной премии «Большая книга-2023» и получил премию «Знамени» «Память, говори», назначенную Российской государственной детской библиотекой. Это авторский дебют переводчика Татьяны Чернышевой. В благодарственной речи лауреата премии Татьяна Чернышева говорит о творческой истории «Дочери предателя»: «В моей повести мало выдуманного, больше вспомненного или взятого из документов. Я несколько лет рылась в архивах, читала чужие дневники, письма, служебные записки, ведомственные приказы, касающиеся детских домов, позднее – интернатов и специнтернатов. Записывала свои и чужие истории, свои и не свои воспоминания. Те, о ком я веду речь, были хорошие люди, и у них была прекрасная жизнь – потому что они наполнили ее любовью и смыслом, несмотря на весь драматизм, на весь ад вокруг. Я не хотела, чтобы о них забыли».
Это роман о судьбе детдомовского ребенка во времена оттепели. В первой части романа Ангелина, рожденная от союза «власовца» и матери, осуждённой за измену Родине, повинуясь внезапному импульсу, сбегает из приёмника-распределителя в Калинине и попадает в Ленинград, а затем в предновогоднюю Москву. Случайная женщина принимает девочку в свою семью. Ангелина Чежик, превратившись в Ларису Рыбакову, обживает мир московских коммуналок с его бытом, порядками и ритуалами. Постепенно оказывается, что у каждой семьи, которая живёт в этом доме, есть о чем молчать и печалиться. Война закончилась совсем недавно. Кроме того, семейные тайны, пунктирные истории, намёки связаны с табуированной темой «большого террора», хотя процессы реабилитации невинно осуждённых уже запущены. Закон этого мира формулирует соседка по коммунальной квартире: «У нас тут главный параграф: нос не в свое дело не суй, язык держи за зубами. Понятно?».
Итак, мир двенадцатилетней девочки расколот на две вселенные – мир, где есть семьи, люди дружат, любят, да просто живут обычной, «настоящей» жизнью, и мир специнтернатов, где надо выживать. Но даже он поделен: есть «домашние» дети, чьи родители пьют или погибли на недавней войне, и есть ненавидимые ими другие, которые, как и героиня, носят невидимое клеймо «ЧС» (члены семьи врагов народа). Стигматизация носит характер встречного движения – и героиня считает себя носителем проклятой, «ядовитой крови», и часть детей и взрослых относятся к ней соответственно: «Яблочко от яблоньки, и все такое…». Необходимость скрываться и лгать, существовать под чужим именем и по чужим документам обостряет внутреннюю расколотость. Сны девочки как способ репрезентации этого состояния: «…а я не смею бежать, потому что все правда: да, я всем все наврала, да, я – дочь предателя. По щекам текут позорные слезы. Я хотела бы принять смерть стойко, но стойко гибнут герои, а я кто? Я – кто? Кто?». Так проблематизируется самоидентификация героини, так артикулируется движущая сила ее второго побега: «Цель была сбежать туда, где я снова стану самой собой. Ради этого я готова была сделать что угодно, пусть и не отдавала себе в том отчета».
Катарсический, по сути, эпизод разоблачения Ангелины, сопровождаемый виной, страхом, унижением, стыдом, катастрофичен для психики. Рассказ правды о себе и своих родителях приемной семье равносилен исповеди, но с посылом «Я разрешаю вам себя не любить», с позиций человека, загнанного в угол: «Я понимала, что, когда меня заберут, припомнят все – и побег, и кражу, и незаконное проживание в столице нашей Родины Москве, и отца-власовца, и мать-шпионку, так что впереди мне светил не билет на балет, а небо в клеточку». Но в итоге признание приносит Ангелине избавление от мучительного двойничества и через принятие ненавистного собственного имени соединение со своей сутью.
В романе нет эпилога, его заменяет «Последняя глава» с пометками «Из голосового дневника» и проставленной датой: 01.05.2020. Через много лет – героиня за рулем, едет на дачу. В финальной главе ее жизнь предстает во всей своей целостности и протяжённости, как законченное явление, которое подлежит осмыслению. И в этой ретроспекции ей если не становится понятен весь замысел, то хотя бы виден узор: «Наверное, из-за них я потом всю жизнь писала светлые пейзажи и веселые лица». Пафос принятия в терапевтической прозе обусловлен как раз отстранением. Охлаждённое прошлое пригодно для работы с ним.
Метарефлексия о своей судьбе не предполагает оценочности («Не жалейте! Всё сбылось, / Всё в груди слилось и спелось» М. Цветаева). Поэтому не столь важно, кто ударил героиню камнем по затылку в начале романа, был ли её отец предателем или осуждён по ошибке: «Отец обиды ни на кого не держал. Все, кто в том бою выжил, попали в плен, а в плену люди вели себя по-разному, потому тут винить некого, война есть война – кровавая каша, – как теперь разобраться». Меняется способ взаимодействия с миром, теперь это несколько отстраненное наблюдение-любование, а не активное освоение/захват.
Она едет по мосту, вокруг неё воздух. Между героиней и живыми людьми тоже воздух, много воздуха. И он заполнен мертвыми. Один из лейтмотивов романа, который явлен в полной мере в «Последней главе» – коммуникация с ними. В 2020 году Ангелине 68 лет (автохарактеристика «старушенция»), а большинство тех, кто любили ее в детстве и отрочестве, уже мертвы. Центр авторского присутствия смещается – из своей жизни в их жизни, в их посмертие. Соприсутствие мертвых дает дополнительное измерение этому тексту. Невесомая рука отца, которую героиня ощущает на руле своей машины, не так уж невесома, раз о ней сочтено нужным сказать. Ощущение любящих и радующихся мёртвых, стоящих за спиной, сообщает экзистенциальный модус авторскому высказыванию: ««За бортом» тепло, облака разошлись, день будет солнечный, я проведу его хорошо – им понравится». И здесь показательно это уверенное будущее время, а не сослагательное наклонение.
В романе Татьяны Чернышевой нет и намёка на love-story, нет педалирования травмы и вообще вышибания слезы из читателя. Саморефлексия героини хорошо выверена и не переходит в душевный эксгибиционизм (плюс детдомовские дети не плачут). Нет обвинения тоталитарному строю, нет деления героев на протагонистов и антагонистов. Это скуповатая на эмоции, недушная проза, где интонация зачастую важнее сюжета, умолчания красноречивей сказанного.
Подборка постоянного автора «Знамени», симферопольского поэта Андрея Полякова «Волнение зеркал» продолжает августовский номер. На этих страницах читателя ждёт «праздник непослушания» и праздник вообще – смеховая стихия, карнавальная эстетика, личины и маски, сплав высокого и низкого, нарушение правил грамматики.
Смысловое поле подборки включает значительный массив чужих текстов. В жонглировании обломками цитат разной степени узнаваемости преобладает Серебряный век: гумилёвское «влюбленное вино», вагиновское «козлиное скаканье», мандельштамовские «скальды», ахматовские «сборища ночные». Над тюрьмой, психбольницей и церковью пролетает ангел имени Льва Шестова («Экзистенциализм»). Миницикл «Осколки русских звёзд» вводит имена Есенина и Клюева. И всё это с лёгким привкусом буффонады:
лучше б ты с Есениным целовался…
Переосмысляя античные мифы о Прозерпине, Персефоне, Дионисе, Андрей Поляков вписывает их в российский культурный код, в снежную стихию, где царит «ледяной свет», а на губах «гиперборейский ветер»:
свой классический хмель…
Иронический модус этой подборки задают сопряжения имён из разных стилистических/эстетических контекстов, насмешливые сближения созвучных слов («в блужданиях либидо и балета»), инверсии («в июне лета на Земле планете»), многочисленные аграмматизмы. Эффект иронии создаётся и за счёт умолчаний:
Ерёменко её за это
Самоидентификация в поэзии Андрея Полякова имеет свою специфику: лирический субъект видит себя со стороны, глазами Другого, и в этой оптике есть изрядная доля скепсиса:
гладить кота не спешит
Среди поэтического реквизита обнаруживается маска зайца. Подобная автопрезентация актуализирует детскость и уязвимость лирического субъекта:
люби меня, пожалуйста, люби!
Образ метафизической (розановской?) «Божьей, слёзной, розоватой» России безусловно суггестивен, но здесь этот пафос опознаётся как шутовской или ложный. Помещённое во фрейм автохарактеристик «говорящий заяц», «немолодой зверёк», сопровождаемое мольбой о любви и жалости, высказывание приобретает слащаво-сентиментальный и оттого пародийный оттенок.
Среди стихотворений подборки есть одно, где политический нарратив стилизован под гротескные литературные анекдоты, приписываемые Даниилу Хармсу, или под корпус анекдотов о Штирлице. Их объединяет особый тип фабулы (маркёры «однажды», «вдруг» и т.д. в экспозиции), пуант (неожиданная концовка) и общая атмосфера абсурда:
в далёкие колхозы небесной Роси
Популярный мем «учёные доказали» наряду с аномальным синтаксисом (грамматически неуместное «красив»), искаженным написанием «Роси» (нечто среднее между «России» и «Руси») дезавуируют серьезность, с которой говорится о трагической судьбе агронома. Сходную авторскую стратегию демонстрирует стихотворение «Элегия», где заглавие обещает традицию и классику, а сам текст эпатирует и дразнит:
где упадёт?
В этой «Элегии» Андрей Поляков покушается на «наше всё». Герой стихотворения – Пушкин, это он стоит «на берегу пустынных во», замещая или, точнее, травестийно подменяя фигуру Петра. Азартная игра с Пушкиным ведется с первой строки до последней: цитата из «Медного всадника» с оборванным словом, затем аллюзия на портрет Ольги Лариной («Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне») и финальная строка, пародирующая финал пушкинской «Осени» – «Куда ж нам плыть?». Здесь же просторечно-неграмотное «ево» и имитация черновика, где альтернативные рифмующиеся слова в скобках предполагают вариативность прочтения. Подборка Андрея Полякова представляет экспериментальную поэзию, направленную на слом автоматизма восприятия.
Два рассказа белорусского автора Вечеслава Казакевича, проживающего в Японии, – следующая публикация «Знамени». Первый рассказ «Летняя водичка» воссоздаёт эпизод из детства о еженедельном походе с отцом в общественную баню. Способ, которым рассказана эта история, напоминает ностальгическую дилогию Ивана Шмелева о детстве – «Богомолье» и «Лето Господне». Авторский купаж юмора и лиризма, реального и фантастического определяет детское восприятие в рассказе. Антропоморфизм как он есть: обмылок грустит и предается воспоминаниям, веник разбалтывает секреты и сбегает из сумки, мыльные пузыри перед смертью шепчут: «Шпок!». И да, «вороватая Снежная Королева» может заглянуть в окно бани.
Баня предстаёт как пространство инициации, вхождения во взрослое состояние, в мужской мир. Категория телесности, заданная самой темой похода в баню, достигает апогея, пожалуй, в образе культи инвалида. Хотя и сами банные мытарства героя, символическое сожжение и обваривание в кипятке акцентируют ее. И тем контрастнее манифестация ухода или отказа от телесности в финале: «...я обретал новенькое с иголочки тело, такое легкое и чистое, что оно, казалось, сделано не из мяса и костей, а из ветра и звона».
Фигура отца приобретает все более демиургические очертания (чему не противоречат даже несколько красных прыщиков на спине), чтобы вырасти до сказочного вершителя жизни и смерти. В финальном пассаже сгущается лиризм, обнаруживает себя ностальгия. Приходит понимание, что рассказчик немолод и, вероятно, отца давно нет в живых. Экзистенциальные превращения – рождение, смерть, возрождение сбрасывают маски обыденности:
«Мне и сегодня кажется, вылей я на себя такую же летнюю водичку, и я опять заново появлюсь на свет, стану шелковым до скрипа и летучим до облаков и, возможно, даже попаду в чайную на звездах, где величавая официантка с накрахмаленными крылышками поставит передо мной небывалые котлеты и бурную газировку. Надо только иметь грубую каменную скамейку, с которой встаешь, как с гробовой доски, цинковый тазик с ручками на заклепках и выбитым на днище зашифрованным заклятьем «ГОСТ 9. 26 – 51» и, наконец, отца, который из обычной горячей и холодной воды может сделать для сына живую воду».
Рассказ Вечеслава Казакевича «Глоток темноты» посвящён фобии: восприимчивый и тревожный ребёнок боится темноты. После ритуала у бабушки-колдуньи боязнь мрака уходит. Герой взрослеет, и иррациональный страх перерождается сначала в месть тьме («…ослеплял ее размашисто зажженными спичками, пугал щелканьем зажигалки, размазывал по стене карманным фонариком»), а затем в перверсивную привязанность к ней. Финал рассказа актуализирует образ мира, соскользнувшего в темноту, где соприсутствие умерших и живых даёт ощущение странной гармонии. И среди них герой, зависший в междумирье:
«Когда-то он думал, что темноту населяют страшные чудовища. Теперь знал: во мраке скрывается он сам. В эту тьму, переступив свои слезы и страхи, ушли мать с отцом, убежала с крыльца вспугнутая им влюбленная парочка, удалилась в сопровождении котов колдунья-бабушка и пьяница-сосед... Свет озаряет застекленную дверь из прихожей. Это пришла жена.
– Ты дома? – с тревогой окликает она.
И он не знает, что ей ответить».
В августовском «Знамени» представлена дебютная подборка санкт-петербургского автора Андрея Красильникова «Живопись для бедных». Её характерная особенность – открытая игра с категорией лирического героя, который опознаётся как маргинальный двойник автора, собутыльник и собеседник:
Пойдём в кафе, покурим, посидим.
Другие варианты идентификации лирического героя – «исчадие тетрадки», «задумчивый певец пустых бутылок». Коллизия строится на несовпадении со временем («Моего времени с меня хватит») и страной. Хронотоп «неизвестной Отчизны» у Андрея Красильникова моделируют безымянные реки и бесконечные заснеженные пространства, «безвыходный пейзаж». Оптимальной стратегией частной жизни в этом топосе становится отход в тень/поля бурьяна/свои шесть соток/на задворки и т.д. Окультуренным вариантом заброшенного и сумрачного пространства предстаёт Павловск:
Давно не кормил.
Стихотворение «Новые впечатления – новые начинания!», открывающее подборку, работает в других стилистических регистрах, хотя ирония и протестный пафос тоже присутствуют:
Пламени между строк.
Захваченность небывалой новизной грядущего мира сопровождается ликующей северянинской интонацией: «Новые впечатления – новые начинания! / Изысканнее модерна, брутальнее, чем ампир». Поэтический текст констатирует разрыв с эстетическими моделями предыдущих культурных эпох. Подлежат отмене имперскость («звон бронзы»), поэзия (как минимум, в государственном изводе). О постмодернистской утрате идентичности свидетельствует пустота вместо имени в личном вензеле. Но «новый сладостный стиль молчания», помимо понятной связи с «Дольче стиль нуово», содержит установку на социальное прочтение (в том числе благодаря аллюзии на одноименный роман Василия Аксёнова). Бравурная бодрость с рекламным душком проблематизирует прекрасность нового мира. Достоверность ликующей интонации дискредитирована и аллюзией на заглавие антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (другое название – «Прекрасный новый мир»).
Жест прощания со старым миром заключён в изящную форму сонета. От канона в нём: 14 строк (два катрена, два терцета); точка, фиксирующая законченную мысль в конце каждой строфы; вполне классическая рифмовка с небольшим отступлением от схемы во втором катрене. И всё же это сонет обновленный – в соответствии с магистральной темой. Мало того, что в нем есть незаконные повторы и параллелизмы, он еще и подчеркнуто разностопен (так называемый «хромой» сонет). Непредсказуемая полиметрия выявляется даже внутри одной строфы. Так обнаруживает себя поэтика распада: лирический сюжет освобождения от старого мира разворачивается синхронно с расшатыванием твёрдой формы сонета.
Благодаря чередованию сверхдлинных и сверхкоротких строк графически текст представляет собой сужающуюся смысловую воронку. Чеканный финальный терцет («сонетный замок») построен на завораживающей метафоре родом из иудейской и кабалистической традиции: «Гори, догорай листок. / Чёрным огнём по белому / Пламени между строк». Согласно преданию, изначально Тора была написана Богом буквами черного огня на фоне белого огня. То есть гибнет старый мир, мир огня и духа, на котором стоит автограф Бога. Здесь узнаваем концепт мироздания как неудачного черновика Бога, который им же перечеркнут («…за чертою / с нажимом наискосок») или сожжён. Но внутри русской литературной традиции образ горящей исписанной бумаги обретает национальные коннотации – гоголевско-булгаковские, становясь метафорой творчества, принадлежащего Вечности.
Следующая публикация «Знамени» – рассказ белорусского художника и писателя Юрия Петкевича «Дверь на небе». Редуцированный сюжет, «я»-повествование и внутренний монолог сближают этот рассказ с дневниковой эссеистикой или лирической прозой. Авторская интенция к созданию текста сформулирована следующим образом: «Я это пишу в первую очередь для самого себя, чтобы не забыть себя, потому что часто забываю…». В тексте присутствует своеобразный внутренний цензор, который поправляет автора: «…если ошибся, не отчаиваюсь. Неправда, я очень часто в отчаянии…». Нарратив здесь сосредоточен не на внешних событиях, а скорее на жизни души, пути самопознания, на разворачивании внутреннего сюжета. В интонации рассказа различим лёгкий оттенок детского простодушия или даже юродства. Сам способ рассказывать историю о себе сбивчиво и фрагментарно, со странными логическими ходами, повторами, кружением вокруг нескольких тем тоже об этом.
Рефрен всего рассказа – воспоминание о бабушке Параске, погибшей в войну, у которой нет даже могилки. Через этот образ включается весь персональный пантеон мертвых родных. Деревенское кладбище в Белоруссии репрезентирует культ предков: «…ведь когда прихожу на наше кладбище к своим родным, многих из которых я не видел, – когда прихожу к ним, – радуюсь! Отсюда и – Радоница!!!». Мотив связи поколений, взаимодействия с Родом подключает «Дверь на небе» и к христианскому, и к дохристианскому смысловому полю. Осмысление идеи загробного существования соотнесено с метафорой из заглавия: «А может, они и не так далеко. Они же ведь живут во мне. Все те, кто рядом, часто бессильны помочь, а помочь могут те, которые там, потому что они уже вошли в Дверь на Небе». Как и в романе «Дочь предателя», коммуникация с мертвыми здесь чрезвычайно значима.
Другие нарративные линии проводят пассажи о труде художника и вдохновении как особом пограничном состоянии сознания, флэшбеки из детства и пунктирное повествование о Милочке, любимой девушке с детским сердцем. Все смысловые тропинки в итоге выводят к центральному концепту «над-радости», которую способны испытать лишь люди, перенесшие большую утрату, сильную боль. Финальный пассаж цитирует письмо вышедшей замуж и уехавшей Милочки: «…теперь я понимаю, о какой ты говорил не-радости, а над-радости. И эта над-радость показалась мне знакомой. И ранее такое меня посещало, а в этом году после того как умер ребенок. Господь опустил в утешение в мою душу такую радость, необычную, не к которой мы привыкли, она ярче обычной радости, а вместе с тем очень тиха и неприметна». Христианская идея радости-страдания помещает рассказ Юрия Петкевича в широкий контекст русской литературы.
Далее на страницах «Знамени» размещено стихотворение Дмитрия Тонконогова «Сказка». Это сатирическое высказывание «на злобу дня», социальный месседж. Нарратив построен на простом аллегорическом переносе: «люди-рыбы», «пансионат «Лесная сказка»-тоталитарное государство». Разворачивание сюжета подчинено идее бесправности обитателей пансионата:
на свободу лова.
Фрагменты записных книжек Алексея Алёхина «Варенье из падалицы» завершают безымянную рубрику «Знамени». Автор – поэт, эссеист, критик, основатель и редактор журнала поэзии «Арион» (1994–2019). Часть его записных книжек вышла в «Новом мире» (№ 4 2022, № 5 2022) и «Дружбе народов» (№ 10 2022 и № 1 2023). Эта публикация представляет собой подборку из записей 1969–2019 годов. Близость к жанру «Опавших листьев» артикулирована следующим образом:
«Все эти выпавшие из записных книжек строчки и фрагменты норовили стать если не стихами, то, на худой конец, хоть прозой. Они вроде падалицы, не поспевшей в настоящие яблоки.
В детстве у нас на даче варили из падалицы чудесное варенье.
Вот только я забыл спросить рецепт».
«Варенье из падалицы» выглядит как творческая лаборатория автора, где в беспорядке лежат материалы будущих книг: минималистичные зарисовки, мысли, наблюдения над человеческими типажами, обрывки разговоров, синопсисы сюжетов. Беглые впечатления от выставок, концертов, музеев. Любимый троп – сравнение. Остроумие сентенций, меткость наблюдений превращают черновые записи в документ эпохи.
В сквозной рубрике «Знамени» «Однажды в СССР», где авторы делятся историями личной, литературной, журналистской жизни из советских времён, на этот раз размещён материал Эльвины Мороз «Майский – маяться? Или – побеждать?» о встречах с писателем Юрием Домбровским во время работы автора публикации в издательстве «Советский писатель».
Рубрика «Мемуары» представляет материал Ирины Зориной-Карякиной «Шестидесятник-марксист». Заметки о Лене Карпинском. Автор вспоминает своё знакомство с видным политическим деятелем, диссидентом, журналистом.
Рубрика Nomenclatura, публикация Сергея Чупринина «Мученики». Из цикла «Оттепель: Действующие лица». Герои этих небольших биографических очерков – писатели, поэты, диссиденты. Среди имён – Даниил Андреев, Лидия Гинзбург, Юлий Даниэль и другие. В продолжение рубрики «Однажды в СССР» ещё три публикации: «Заблудившийся трамвай», где Андрей Волос рассказывает эпизод из своей поэтической биографии, «Дети чугунных богов», где Анатолий Королев повествует о сложных отношениях с чугуном и о знаковых памятниках; «Тропари и кондаки», где Александр Мелихов рефлексирует о своём юношеском восприятии церкви и религиозной жизни.
В рубрике «Эссе» читателя ждёт цикл маленьких притч Михаила Эпштейна «Философские случаи». Публикацию сопровождает предисловие автора, где он высказывается о своем творческом методе: «Такие случаи, разрывающие смысловую ткань мира, любил описывать Даниил Хармс. Но его интересовали случаи как частицы абсурда, кванты бессмыслицы, вброшенные в нашу жизнь и сводящие ее смысл к нулю. Для меня, напротив, важно разрастание маленьких частиц до наибольших смыслов, включающих в себя все: от Бога до человека, от атома до Вселенной. <...> Если хармсовские случаи – это антисмыслы, то в моем понимании это метасмыслы, включающие абсурд».
В рубрике «Пристальное прочтение» можно ознакомиться с публикацией Алексея Конакова «Великий буквалист». О прозе Павла Улитина. Под рубрикой «Книга как повод» Богдан Агрис в эссе «Как быть писателем»: литература под натиском идеократии» размышляет над исследованием Глеба Морева «Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии».
Обзор «Прозрачная ретроспектива. Новейшая русская литература в академических журналах первой половины 2022 года» (рубрика «Переучет»). Критик Александр Марков анализирует следующие периодические издания: «Шаги/Steps» (2022, № 2), «Литература двух Америк» (2022, т. 12), «Логос» (2022, № 2), «Вестник Свято-Филаретовского института» (2022, т. 41). Авторские неологизмы «оспособнивание несаморазумеющегося» и «самоозазоривание бытия» не замутнят прозрачность этой ретроспективы.
Раздел «Наблюдатель» открывается рубрикой «Рецензии». На этот раз в поле зрения литературных критиков оказались следующие новинки: «Собрание стихотворений» Олега Юрьева, роман Александра Соболева «Тень за правым плечом», поэтическиекниги Алексея Сомова «Грубей и небесней» и Игоря Буренина «луна луна и еще немного», романы Александра Стесина «Троя против всех», Филиппа Дзядко «Радио Мартын» и Сергея Медведева «Человек бегущий». Также можно найти рецензии на прозу nonfiction: сборник воспоминаний о Мариэтте Чудаковой «Мариэтта», книгу Ильи Виницкого «Переводные картинки. Литературный перевод как интерпретация и провокация» и «Словарь перемен 2017–2018» Марины Вишневецкой.
Рубрика «Лаборатория», публикация «Новые возможности. Рупор Камбербэтча: лаборатория читок современной драматургии. 21-22 мая 2022 года, Москва». Матильда Ульянова рассказывает о пьесах, участвующих в новом литературно-театральном проекте. В авторской рубрике «Скоропись Ольги Балла», завершающей номер, литературный критик традиционно делится впечатлениями от трёх новых книг: «Это не то» Оксаны Тимофеевой, «На пути к философии. Путевые размышления» Елены Косиловой и «Лето» Аллы Горбуновой. Выбор текстов, как всегда, неслучаен: «Все эти книги, в конечном счете, – об истоках философской мысли, о точках ее рождения. <...> Мышление в каждой из них – от первого лица с собственными индивидуальными чертами».
ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ
Pechorin.net приглашает редакции обозреваемых журналов и героев обзоров (авторов стихов, прозы, публицистики) к дискуссии. Если вы хотите поблагодарить критиков, вступить в спор или иным способом прокомментировать обзор, присылайте свои письма нам на почту: info@pechorin.net, и мы дополним обзоры.
Хотите стать автором обзоров проекта «Русский академический журнал»? Предложите проекту сотрудничество, прислав биографию и ссылки на свои статьи на почту: info@pechorin.net.

Популярные рецензии
Подписывайтесь на наши социальные сети